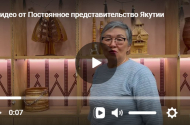«Поздние признания. История отношений, которых не было»: Владимир Смирнов о Горьком и Анненском

Эта заметка не претендует на полноту историко-литературных обстоятельств или на подробное описание взаимоотношений двух русских художников: Иннокентия Анненского и Максима Горького. Да и отношений, в принятом смысле этого слова, не было. К тому же если значительность Горького как явления чрезвычайного осознаётся в России и мире уже на рубеже XIX–ХХ веков, то содеянное Анненским, поэтом и мыслителем, медленно «прорастало» в большом времени ХХ столетия. Вот почему сопоставление этих имен на протяжении почти столетия было просто-напросто невозможно. «Грандиозность» Горького, его явленность «Граду и Миру» и – некто, точнее «Никто», как обозначил своё авторство поэт в первой и единственной прижизненной книге стихов «Тихие песни»... Подобное даже самым простецким образом связать было нельзя. Да и кто рядом с Горьким Анненский, который, по слову Ахматовой, «как тень прошёл и тени не оставил»?
Горький хорошо знал и весьма пристрастно судил современную ему русскую поэзию. С разной степенью полноты он высказался (статьи, заметки, письма) почти обо всем более или менее значительном в нашей лирике. О Вл. Соловьёве и К. Случевском, К. Фофанове и И. Бунине, Н. Минском и З. Гиппиус, Ф. Сологубе и К. Бальмонте, В. Брюсове и Вяч. Иванове, А. Блоке и Андрее Белом, В. Маяковском и Б. Пастернаке, В. Ходасевиче и М. Цветаевой, С. Есенине и Н. Клюеве, Н. Гумилёве и С. Клычкове и ещё о многих и многих вплоть до М. Исаковского, Павла Васильева и Я. Смелякова. В этом почтенном и многоименном перечне долгие годы не встречалось имя поэта, старшего современника Горького ‒ Иннокентия Федоровича Анненского. Это довольно странно, памятуя о том, что Горький читал «всё». Он с любовью и почтением относился к старшему брату поэта Николаю Федоровичу Анненскому, общественному деятелю, обладавшему редкостным нравственным авторитетом в те времена.
И вот имя Иннокентия Анненского появилось в горьковском тексте, опубликованном в 1963 году в 70-м томе «Литературного наследства». Оно пребывает здесь по крайней мере в двух ипостасях: строго литературной, библиографической; и, как выясняется из ряда сопоставлений, – в сложнейшем религиозно-философском, историческом пространстве.
В августе 1926 года литературовед профессор Алексей Яковлевич Цинговатов (1885–1943) послал Горькому в Сорренто свою книгу об Александре Блоке, одну из первых советских монографий о поэте. Завязалась непродолжительная переписка. В письме от 06.03.1927 Цинговатов обратился к Горькому с просьбой: «Если не затруднит Вас, не откажите ответить на вопрос: какие критические статьи или очерки о вашем творчестве удовлетворяют Вас более других?»
К 1927 году критическая литература о Горьком на разных языках была более чем огромна. Для примера: с 1896 по 1904 г. сочинения этого рода о писателе составили более 1860 названий. Естественно, что среди писавших о Горьком – выдающиеся писатели, критики, деятели искусства, учёные и политики, русские и зарубежные. С учётом этого и много другого, ведь Горький к 1927 году уже давно был личностью вселенского масштаба, его ответ на вопрос Цинговатова поражает. Центром этой «поразительности» неожиданно оказывается имя Иннокентия Анненского. Его уже не было на свете более двадцати лет. Из письма Горького: «На вопрос ваш <...> я не могу ответить по той причине, что очень плохо помню то, что писалось обо мне. А плохо помню потому, что невнимательно читал, что объясняется малым интересом моим к самому себе или, м.б., преувеличенным интересом? Не знаю.
Но могу сказать Вам, что дважды был очень сильно удивлён статьями обо мне людей, далёких душе моей; один из них даже враждебно относился и относится ко мне.
Статья его называлась «Не святая Русь»... Вероятно, Мережковский очень ругал себя за эту статью. Другая статья Иннокентия Анненского, поэта, напечатана в одной из двух его книжек прозы. Вот и – всё». Напомним, что это 27-й год, и что именно в эту пору Горький указывает лишь на две статьи и подчеркивает их исключительность, единственность – «Вот и ‒ всё».
Дмитрий Сергеевич Мережковский тогда находился в эмиграции во Франции, литературно и общественно был чрезвычайно активен, позиция и поведение его отличались крайним антибольшевизмом и антисоветизмом. В России в 1900–1910 гг. место в литературе Мережковского было неоспоримо. Хотя в критических взглядах и суждениях недостатка не было. Мережковский десятилетиями являлся относительно Горького «полюсной фигурой».
«Голос вне хора» – так назвал Анненского Михаил Бахтин. Выражение мыслителя живо и просто объемлет то, что сделал в русской поэзии Анненский. Но на долгие годы его лирика была обречена, если воспользоваться одним из любимых его слов, «забвенности». В 1900–1910 гг. даже самое робкое сопоставление Анненского с Горьким было невозможно в силу абсолютной значительности Горького и столь же абсолютной «незначительности» Анненского.
На новый век, где «таланты стали делать литературу», Анненский взирал с недоверчивой терпимостью, хотя и стал могучим поэтом именно этого века. «Это наш Чехов в стихах» – таково мнение о нём русского философа Георгия Федотова.
В начале 1906 года в Санкт-Петербурге вышел первый литературно-критический сборник Анненского «Книга отражений». В 1909-м – «Вторая книга отражений». В предисловии к «Книге отражений» автор заметил: «Я же писал здесь только о том, что мной владело, за чем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе, сделав собою». В одном из писем той поры Анненский признался, что более точным названием книги вместо «Отражений» было бы – «Влюблённости».
«Книга отражений» состоит из десяти очерков. Отдельно представлена лишь статья «Бальмонт – лирик». Самый пространный раздел называется «Три социальных драмы». В него входят статьи «Горькая судьбина», «Власть тьмы» и «Драма на дне» (хочу обратить внимание читателей на особенности в названии последнего очерка). К этому разделу примыкает другой – «Драма настроения», куда входит лишь одна статья «Три сестры». Итак, Анненский в некоем единстве рассматривает драматические сочинения Писемского, Льва Толстого, Горького и Чехова.
Статья «Драма на дне» и вызвала «сильное удивление» Горького. Мы вправе задаться вопросом: почему? Для этого необходимо небольшое отступление.
Анненский начинает свою статью так: «Я не видел пьесы Горького. Вероятно, её играли превосходно. Я готов поверить, что реалистичность, тонкость и нервность её исполнения заполнят новую страницу в истории русской сцены, но для моей сегодняшней цели, может быть, лучше даже, что я могу пользоваться текстом Горького без театрального комментария, без навязанных и ярких, но деспотически ограничивающих концепцию поэта сценических иллюзий.
Я думаю, что в наши дни вообще коллизия между поэзией и сценой всё чаще становится неизбежной. На сцене вместе с развитием реалистичности растёт и объективность изображения. <...> Жизнь кажется мистической и декорация живой». Какие важные и многосмысленные замечания!
Жизнь пьесы на протяжении длительного времени – сплошной литературный и театральный триумф. Для левосоциалистического сознания, особенно для идеологической мифологии в СССР, пьеса имела культово-воспитательное значение. Некоторые фразы из неё, такие как «Всё в человеке, всё для человека!» и подобные, стали скрижалями советского мировоззрения и поведения.
Горький писал пьесу в 1902 году. 18 декабря на сцене Московского художественного театра состоялась её премьера. Отдельные издания появились в 1903 году в Мюнхене и Санкт-Петербурге. Полное название пьесы – «На дне». Картины. Четыре акта». Успех пьесы в России и Европе, общественно-политический резонанс были огромны. Некоторые театральные представления перерастали в манифестации. Интересно суждение автора о знаменитом монологе Сатина: «Речь Сатина о человеке-правде бледна. Однако – кроме Сатина – её некому сказать, и лучше, ярче сказать – он не может».
Вот и начинает просматриваться то, что так сильно и неожиданно задело Горького. В очерке «Драма на дне» Анненский с прихотливой пластичностью и музыкальностью, даже своевольно, в форме быстрого пересказа, подчинил себе пространство пьесы, обронив при этом множество чýдных и глубоких мыслей. Чего стоит лишь одна такая фраза: «Так, драгоценный остаток мифического периода – герой, человек божественной природы, избранник, любимая жертва рока, заменяется теперь типической группой, классовой разновидностью. <...>
Драматургия пьесы «На дне» имеет несколько характерных черт. В пьесе три главных элемента: 1) сила судьбы, 2) душа бывшего человека и 3) человек иного порядка, который своим появлением вызывает болезненное для бывших людей столкновение двух первых стихий и сильную реакцию со стороны судьбы». Согласимся, мы совсем не избалованы суждениями такой сдержанной и благородной силы о прославленной пьесе.
Вершина свободной и властной мысли Анненского – в последних строках статьи. Им предшествует выдержка из монолога Сатина: «Человек может верить и не верить... Это его дело! Человек свободен... он за всё платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за всё платит сам, и потому он свободен! Человек – вот правда! Что такое человек? Это не ты, не я, не они... Нет! Это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет в одном! Понимаешь? Это огромно. В этом все начала и концы. Всё – в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё же остальное – дело его рук и мозга! Чело-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо!..»
Венчает эту славную риторику и весь очерк «еврипидовская» интонация Анненского: «Слушаю я Горького–Сатина и говорю себе: да, всё это, и в самом деле, великолепно звучит. Идея одного человека, вместившего в себя всех, человека-бога (не фетиша ли?) очень красива. <...> Ох, гляди, Сатин–Горький, не страшно ли уж будет человеку-то, а главное, не безмерно ли скучно ему будет сознавать, что он – всё, и что всё для него и только для него?..» Это гениально.
Статья завершена до августа 1905 года. Нынче его уже невозможно представить чисто календарно – этот 1905-й.
В статье, особенно в её финале, Анненский коснулся (и как!) того, что в дальнейшем определит кошмар и муку ХХ столетия. Во мгле будущего он разглядел то, что было призраком и станет явью. И, как часто водится на Руси, сделал это поэт, ибо только поэт видит мир сквозь «самое страшное и властное слово, то есть самое загадочное – может быть – именно слово будничное» (слова Анненского). В связи с пьесой Горького поэт прозрел и воплотил великую интуицию ХХ века. Тому есть и подтверждение.
Павел Флоренский в 1926 году в тезисах к своему докладу о Блоке писал: «Современная российская императивность марксизма принудительно наталкивает (в этом её добро) на необходимость выбора монистической системы мировоззрения, внутри которой надлежит «расставить на свои места» накопленные ценности культуры.
Сейчас непосредственно ощутимо, что мир расколот религиозным принципом: антитезис марксизму – только христианство (то есть православие), религии человекобожия – религия богочеловечества».
И сегодня мир без всякого марксизма всё так же расколот «религиозным принципом», как и в 1926 году.
Вопросительная догадка Анненского, так поразившая Горького, надо думать, неотступно следовала за ним. Чуткость писателя, мужественно проявленная и хранимая им, делает ему честь.